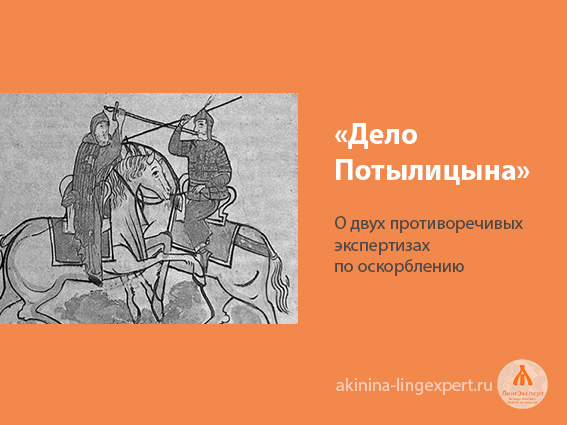Две противоречивые лингвистические экспертизы по оскорблению
Начну сразу с оговорки. Дело блогера Андрея Потылицына касается защиты чести, достоинства и деловой репутации, а не оскорбления. Однако именно тема оскорбления стала ключевой в этом иске и, соответственно, в двух проведённых по делу судебных лингвистических экспертизах. Впрочем, это не единственное противоречие в этом разбирательстве. А теперь обо всём по порядку.
***
Эту статью я писала субботним вечером 16 января 2021 года. Всего несколькими часами ранее я наткнулась на материал «Коммерсанта» о том, что в деле «Башспирт» против блогера Андрея Потылицына» появились результаты повторной лингвистической экспертизы, которую на днях рассмотрит суд.
Руководство АО «Башспирт» подало в суд на блогера, посчитав выражение «менеджмент там вороватый и жуликоватый, его нужно целиком менять» оскорбительным для высшего должностного состава предприятия.
Первую экспертизу по этому делу проводил известный санкт-петербургский эксперт Валерий Ефремов, который состоит в Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам, является доктором наук и преподаёт в РГПУ имени Герцена. Хотя в данном случае он выступил как эксперт ООО «Городской центр судебных экспертиз». Его экспертизу руководство «Башспирта» сочло неполной и ходатайствовало о проведении повторного исследования. Суд ходатайство удовлетворил, и экспертиза была назначена в АНО «Томский центр экспертиз», а именно эксперту Яне Дударевой, которая работает в кемеровском государственном университете, является кандидатом филологических наук и в экспертной среде известна публикациями в области лингвистической экспертизы товарных знаков (она же нейминговая экспертиза).
К сожалению, я не видела текстов ни первой, ни второй экспертиз. Однако, основываясь на цитатах «Коммерсанта», уверенно склоняюсь к точке зрения профессора Ефремова: в высказываниях явно выражено оценочное суждение. «Вороватый и жуликоватый» — явная личная оценка, и это, если верить «Коммерсанту», признаёт и сама Яна Александровна: «Госпожа Дударева полагает, что ответчик распространил негативную информацию о руководящем составе организации в форме оценочного суждения без фактических сведений».
Однако В.А. Ефремов и Я.А. Дударева почему-то сделали противоположные выводы из одного и того же умозаключения. Эксперт из томского АНО сочла, что в видеоролике А. Потылицына «содержатся «прямые указания на противоправный характер поведения руководства „Башспирта“, и потому данный фрагмент носит оскорбительный характер» (цитирую по «Коммерсанту»). Санкт-петербургский эксперт счёл, что имело место только выражение оценки. Повторюсь, что я считаю так же, как и В.А. Ефремов, и свои доводы строю на семантике.
Вот значения слов «жуликоватый» и «вороватый» в моём настольном словаре – Большом толковом словаре русского языка под редакцией С.А. Кузнецова:
Вороватый – «разг. 1. Склонный к воровству; плутоватый, хитрый. Вороватый парнишка. Вороватый кот // Выражающий плутовство, хитрость. Вороватый взгляд. 2. Осторожный, опасливый; крадущийся. Вороватая походка».
Жуликоватый — «разг. Склонный к жульничеству, мошенническим поступкам. Жуликоватый человек. Жуликоватая баба, жуликоватый продавец // Свойственный жулику; подозрительный, плутоватый. Жуликоватый вид».
Оба толкования опираются на слово «склонный». В этом, во-первых, отличие слов «жуликоватый» и «вороватый» от слов «жулик» и «вор», ведь склонный – это такой, который теоретически может сделать нечто, у него есть все предпосылки; но иметь склонность – не значит сделать. То есть жуликоватость и вороватость описывают некое качество человека, но не его поступки (в отличие от слов «жулик» и «вор»). Но это качество, собственно говоря, довольно расплывчато, в значительной мере условно. Ведь определять чужую склонность – это значит пытаться влезть в сознание другого человека, определить, что другой человек может, а чего не может.
Разумеется, это всё очень условные частные толкования, то есть, собственно говоря, мнение (если, конечно, речь не идёт о психологах, которые путём конкретных исследований определяют чужие склонность, и в этом их работа и состоит). А оценочные суждения, ещё раз напомню, и являются разновидностью мнения.
Кстати, попутно замечу, что выражение «его нужно целиком менять» вообще стоит особняком по отношению к теме утверждений и мнений. Поскольку это так называемое деонтическое высказывание, высказывание-норма, где солирует слово «нужно». Согласно устоявшейся концепции судебной лингвистики, выражения со словами «можно», «нельзя», «нужно», «надо» и подобными в принципе невозможно проверить на соответствие действительности, поэтому они не являются ни утверждениями, ни мнениями в рамках нужной суду классификации.
***
Таким образом, с наличием оценочности в приведённых высказываниях согласные все. Но откуда взялась тема оскорбительности? На мой взгляд, в умозаключении эксперта Я.А. Дударевой о том, что в ролике имеются «прямые указания на противоправный характер поведения руководства „Башспирта“, и потому данный фрагмент носит оскорбительный характер» изначально заложено противоречие. Я бы описала его так: «Наличие порочащих сведений равно оскорблению».
Может быть, с точки зрения рядового человека всё так и есть. Опять и опять появляются претензии, суть которых одна: ‘сказанное мне не понравилось, а значит, это оскорбление’. Иски, основанные на этой идее, множатся не по дням, а по часам.
Но эксперту всё это смешивать, на мой взгляд, непозволительно. Порочащие сведения – это такие, которые характеризуют человека негативно, сообщают о совершённых им противоправных или аморальных поступках и при этом не соответствуют действительности. А для оскорбления ещё необходимо наличие неприличной формы выражения.
Знаете, я не разделяю точку зрения о том, что неприличное – это всё то, что просто не соответствует ситуации общения. Эта идея, как я уже не раз говорила, легла в основу первых классификаций «инвективной лексики» и самых первых экспертных методик по делам о защите ЧДиДР и делам об оскорблении. Но сегодня, по прошествии 20 лет, когда изменилось и законодательство, и само общество, этих классификаций уже мало. Ну не достаточно сегодня для глубокой экспертной оценки просто счесть, что слово «дурак» неприлично, если его применяют к чиновнику или правоохранителю, поскольку этикет нам диктует другое поведение с власть имущими. Получается, что «дурак» по отношению к чиновнику – неприлично, а по отношению к соседу – можно, мы же вроде бы на равных…
Именно из-за этих двойных стандартов я давно использую в работе публикации И.А. Стернина и основанную на его идеях методику Минюста по делам об оскорблении. Потому что ни у Стернина, ни у Минюста двойных стандартов нет. У них неприличное неприлично всегда (хоть по отношению к чиновнику, хоть по отношению к соседу), а не при каких-либо условиях, потому что неприличность определяется семантическим стержнем слова, а не ситуацией общения. Лично я считаю, что в этом есть логика.
Но, к сожалению, многие эксперты по-прежнему основываются на обтекаемых классификациях, поэтому и появляются суждения о том, что сообщение другим о противоправных поступках лица якобы для этого лица оскорбительно. Само по себе. Ну чем не цензура? В основе таких суждений лежит идея о том, что неприличное – это то, что просто не вписывается в требования этикета. Отчасти это так, но…
Кстати, я уже молчу о том, что определять оскорбительность (оскорбительный характер) сведений – это вообще не задача лингвиста-эксперта. Это прерогатива суда, и только его.
Насчёт референта сведений (касались ли они менеджмента как системы управления либо менеджмента как группы конкретных лиц) без полного текста судить трудно. Жаль, что у меня на руках нет полного текста обоих заключений и нет самого исходного видео.
…Да, вновь и вновь, с завидным постоянством лингвоэкспертиза упирается в понятие неприличности. Это один из самых болезненных вопросов, который уже много лет не решается однозначно и бесповоротно. Хотя ни один другой вопрос, пожалуй, так настоятельно не требует решения. А вся эта ситуация с делом Андрея Потылицына вновь привела меня к давнему решению написать статью «Споры о неприличной форме». Я задумала её давным-давно, но всё некогда реализовать замысел. Похоже, это будет задача на самое ближайшее будущее.
***
Отдельно замечу, что написала эту статью не для того, чтобы укорить кого-либо из коллег-экспертов. Ни сейчас, ни когда-либо ранее я не ставила себе такой задачи и ставить не собираюсь (за исключением экспертов «карманных», но «дело Потылицына» — уверена, не тот случай).
И с Яной Александровной, и с Валерием Анатольевичем я встречалась лично на конференции, это профессионалы лингвоэкспертизы и знатоки филологии, к которым я отношусь с уважением. Они состоялись в профессии, а для научной карьеры нужно очень и очень много труда. Оба эксперта имеют массу публикаций в сфере их научных интересов, и этими публикациями я либо уже пользовалась в работе, либо взяла на заметку.
Статья писалась в попытке понять, почему два эксперта пришли к разным выводам по одному и тому же материалу, и составить своё собственное профессиональное мнение о деле. Рада, что вы размышляли над этим «делом Потылицына» вместе со мной.
Спасибо за внимание!
Анастасия АКИНИНА,
автор блога «ЛингЭксперт», независимый эксперт-лингвист, член ГЛЭДИС, член СЖР.